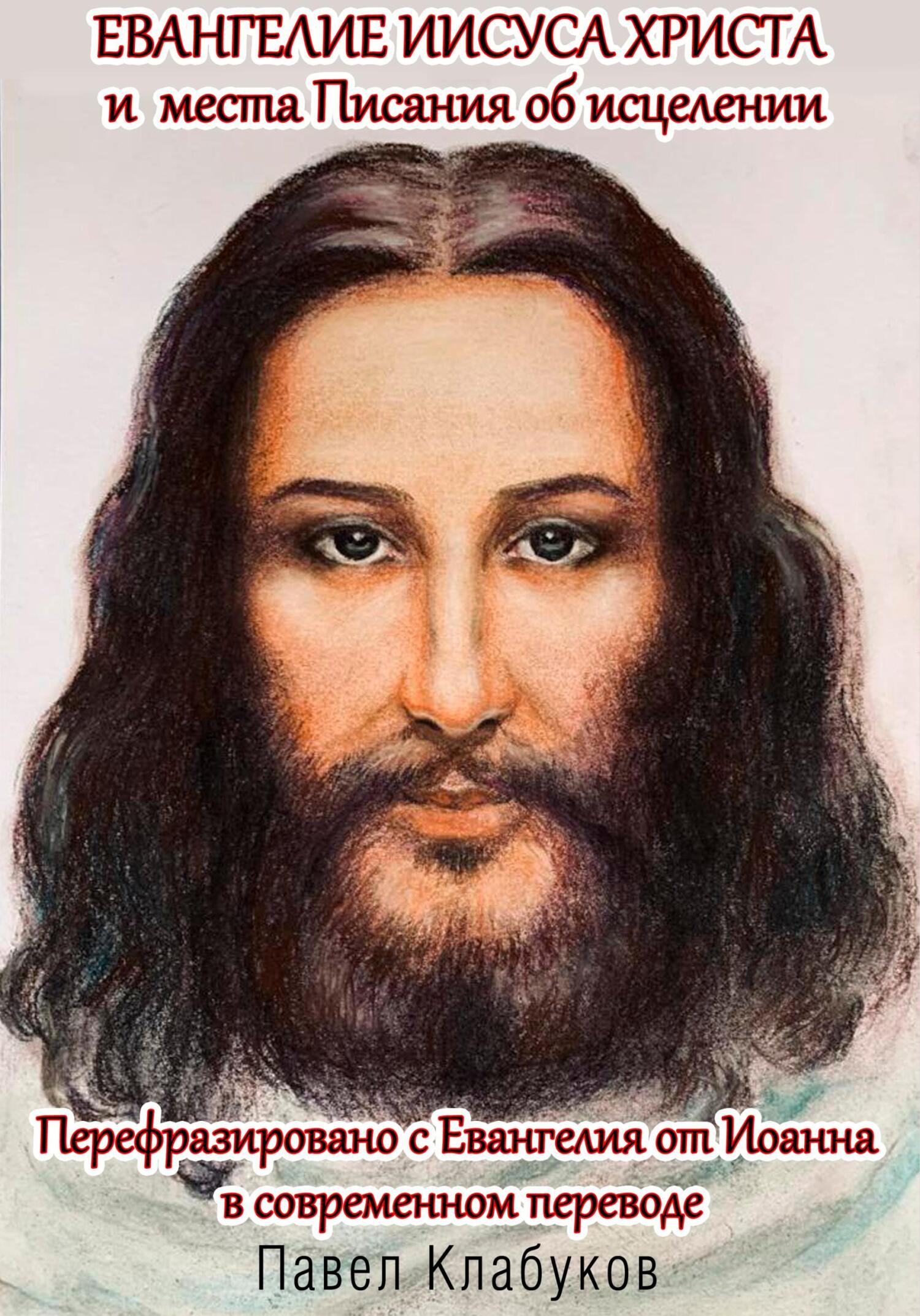Шрифт:
Закладка:
Я практически не видела, где ехала. По мере приближения к Суржину мне становилось все муторнее. Это бабочки без проблем вылетают из кокона, когда приходит время. Для них, бабочек, вылет из кокона не иначе как желанный момент. У меня же все было по-другому. Вот-вот должен был треснуть и расколоться кокон конспирации, уберегавший меня от неприятных неожиданностей, и мне, без крыльев и без радости в глазах, предстояло предстать перед счастливыми ретритерами, которых ждала скорая встреча с их любимым Мокшафом. Что мне говорить при первом знакомстве с ними? Или в автобусе, если кто-то из них подсядет ко мне и станет расспрашивать о том, как я узнала о Мокшафе, почему решила к нему ехать и т. д. и т. п.? Что мне тогда делать с моими безрадостными глазами?
Я видела Таню мельком на Казанском вокзале. Наши взгляды случайно встретились, и мне показалось, что она, вопреки мнению Андрея об особенностях ее личности, меня узнала. Так что возможен был еще и неприятный разговор с Таней.
* * *Поезд подъехал к Суржину и остановился. Мимо меня стали продвигаться к выходу пассажиры со своими чемоданами и баулами. Я дождалась, пока в тамбуре никого больше не осталось, сняла рюкзак с багажной полки и вышла из вагона.
Несколько поодаль от входа в здание вокзала толпились люди. Мне бросилась в глаза «лазурь» в их одеянии. У одних были рубашки, майки или летние куртки синих тонов, у других – брюки или юбки, у третьих – шарфы или косынки. Направляясь к ним, я увидела и Таню. Как раз в тот момент она отделилась от группы и пошла к входу на вокзал с мобильником, прижатым к уху.
Когда я подошла к ретритерам, никто не обратил на меня внимания. По раздававшимся то там то здесь репликам я поняла, что нас должен был встречать на перроне шофер автобуса, но его не оказалось. Приятно удивило, что нас было много – человек тридцать, как я прикинула на глаз. Чем больше людей, тем легче среди них затеряться. Я как раз боялась, что группа будет человек в десять и каждый станет предметом любопытства всех других.
Таня скоро вернулась и сообщила, что у нашего автобуса что-то сломалось и сейчас эта проблема решается. В результате нам предстояло час-полтора ждать отправления в «Трансформатор». Кто-то стал возмущаться, но Таня пресекла обсуждение этого вопроса, сказав, что ретрит начался еще в поезде и каждый должен теперь тренироваться в переключении внимания с внешних обстоятельств на свое «внутреннее пространство».
Скоро Таня опять направилась в здание вокзала, а группа тихо и спокойно осталась ее ждать. Если бы я не знала, что это был за коллектив, то, проходя мимо, решила бы, что собрались студенты, отправлявшиеся на турбазу. За исключением пяти-шести парней, моими одногруппниками оказались чистенькие девочки без косметики или с ее минимумом, большинство из которых были хорошенькие, стройные и воспитанные. Какофонии голосов после вразумления Тани не стало. Если кто-то к кому-то обращался, то говорил тихо и коротко.
Однако уже скоро группа стала терять свою компактность: кто-то пошел в здание вокзала, кто-то отошел в сторону. Мысль, что я вдруг окажусь в какой-то кучке и не смогу оставаться в стороне, взвинтила мои нервы. Недолго думая, я отошла от группы и направилась в конец перрона, где находился еще один выход в город. Мне пришла в голову идея прогуляться где-нибудь рядом с вокзалом. Рюкзак был легким, он мне не мешал.
Я застегнула на все пуговицы жакет поверх моей ярко-синей майки, заимствованной у Андрея, и моя «лазурь» стала невидимой. Затем я достала из рюкзака шарфик неуставной расцветки и повязала его на голову, как платок. Ну и еще надела темные очки. Одна конспирация кончалась, другая начиналась. Я полюбила конспирацию. Конспирация – это спокойно и удобно.
2
Та часть Суржина, в которой я оказалась, была похожа на поселки-скороспелки 50-х годов прошлого века. Трехэтажные дома-коробки вперемешку с деревянными бараками, разбитый асфальт, сарайчики из всего, что народ тащит со свалок, – разноформатных досок, кусков фанеры, листов железа. Я пошла куда глаза глядят и добралась таким образом до квартала, где был новострой 1960–70-х годов, похожий на московские хрущобы.
У одного из подъездов сидел на корточках мужчина-азиат средних лет. Он, не отрываясь, смотрел на меня. Прямой, ничего не выражающий взгляд. Между нами было метров пятнадцать. В Москве такое расстояние стало бы препятствием для завязывания разговора с незнакомым человеком. Здесь же об этом думали иначе.
– Чего ищете? – крикнул мне мужчина.
Этот вопрос меня озадачил. И в самом деле, чего я здесь искала? Я решила в свою очередь озадачить моего внезапного собеседника.
– А вы сами как думаете? – спросила его я.
В лице мужчины ничего не изменилось. Он продолжал смотреть на меня и молчал. Я на всякий случай приостановилась, а вдруг он сейчас и правда размышляет над моим вопросом. Эта немая сцена продолжалась с минуту. В тот момент, когда я вознамерилась двинуться дальше, мужчина встал и вошел в подъезд, у которого сидел. А я пошла дальше.
До сих пор я отчетливо вижу эту сцену. И до сих пор не очень понимаю почему. Может быть, эта картинка приклеилась к мысли, доминировавшей по дороге в «Лагерь внутренней трансформации», что это последний день нормальной жизни? Мне не нравилось уже одно это слово – «лагерь». Вспоминался летний детский лагерь, в которой меня раз отправила мать. Огороженная территория, за которую нельзя было выходить, строгий режим, «линейки», обязательные коллективные мероприятия. Короче говоря, ограничение свободы. Вот и было у меня чувство, что я скоро потеряю свою свободу. Не полностью потеряю – так я не думала, потеряю что-то от нее. Но для меня и мелочь была не мелочь, если это касалось моей личной свободы.
* * *Был еще один хорошо запомнившийся эпизод в моем бродяжничестве по Суржину. За хрущобами стояли два восьмиэтажных дома – местные небоскребы, между ними находилась детская площадка с песочницей и качелями, по бокам – лавочки с зеленой облезлой краской. Из чьей-то кухни пахло жареным, где-то через открытое окно звучало радио, где-то раздавались голоса. Это место
![Исчезнувшая сестра [litres] - Алла Кузьминична Авилова](/uploads/posts/books/18354/18354.jpg)